Есть хорошее такое словечко – «запечатление». Это когда то, что ты увидел в первый раз, остается в тебе навсегда и влияет на всю твою последующую жизнь. Для меня таким запечатлением стала моя первая книжка – «Игра» Даниила Хармса с рисунками М. Митурича и И. Бруни (изд. «Детский мир», 1962 г.), которая до сих пор хранится в нашей библиотеке – старенькая, без обложки, но живая и веселая, как тот озорной старичок, зовущий нас с титульного листа поиграть и посмеяться: «Жил на свете старичок маленького роста…».
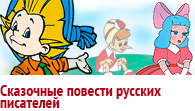
Меня всегда занимало, почему это он, «увидя стрекозу, страшно рассердился»? С чего бы это ему сердиться по поводу стрекозы? А вот такая она, возмутительная: лупоглазая, как лягушка, длинная, как свирель, да еще и с крыльями! Безобразие! Так иллюстраторы Хармса впервые явили мне стрекозу, которую до того момента я никогда не видела.
Хармс научил меня считать. «В переулке шел отряд, сорок мальчиков подряд…». А художники, в свою очередь, обратили мое внимание на четкость и красоту цифр, хотя стройным колоннам девочек и мальчиков я потом всю жизнь предпочитала хаос и буйство неорганизованной действительности… Читатель Хармса в лице меня был похож, скорее, на Сережу из «Ивана Иваныча Самовара», мальчика, который «неумытый приходил, всех он позже приходил…». О, а дядя Петя и тетя Катя из того же стихотворения! Сколько дядь Петь и теть Кать я повидала в книжках Хармса… У М. Митурича и И. Бруни они – веселые работяги, у М. Беломлинского – симпатичные интеллигенты, у Ф. Лемкуля дядя Петя, кажется, шофер, а тетя Катя, возможно, учительница или библиотекарь, у Б. Тржемецкого – это чета важных обывателей, которые к концу стишка начинают улыбаться и превращаются в милейших созданий. «Иван Иваныч Самовар» образца 2011 года проиллюстрирован потрясающим художником и аниматором Игорем Олейниковым. У него «самоварная» семейка – скорее всего, профессорско-преподавательского состава.
Как сказал знаменитый книжный график В. Конашевич, «в искусстве все… можно, если это сделано талантливо, и ничего нельзя, если это сделано бездарно». Ну а что такое талантливо или бездарно, дети и сами вполне могут разобраться. Впрочем, среди иллюстраторов Хармса бездарных художников вы не найдете. Ему, как никому другому – ну, может, разве что Маршаку и Чуковскому – с этим повезло. Ведь наверняка те, кто рисует картинки к детским книжкам, в любом возрасте остаются немножко детьми, и сами не прочь поиграть. А лучшего заводилы, чем Хармс, в игре («Игре»!) не найти. В ней можно врать: «А у папы моего было 40 сыновей!». Можно представлять себя машиной, кораблем, летательным аппаратом: «Я теперь уже не Петька, я теперь автомобиль!». Можно даже радоваться папиной победе над хорьком – замечательным зверьком и набить из него чучело, но не по-настоящему, понарошку, конечно! Это ведь тоже игра, считалка вроде «Десяти негритят», которые пошли купаться в море и один из них утоп… Вряд ли кто-либо из маленьких «хармсолюбов» через какое-то время стал бы убийцей хорьков. Скорее, наоборот – им мог стать тот, кто в детстве не держал в руках книг Хармса.
Галина Туз, литератор | 
